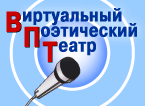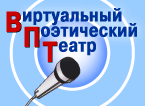Четырнадцать тысяч пиитов
страдают во мгле Лужников.
Я выйду в эстрадных софитах –
последний читатель стихов.
Разинувши рот, как минеры,
скажу в ликование:
«Желаю послушать Смурновых
неопубликованное!»
Три тыщи великих Смурновых
захлопают, как орлы
с трех тыщ этикеток «Минводы»,
пытаясь взлететь со скалы.
И хор, содрогнув батисферы,
сольется в трехтысячный стих.
Мне грянут аплодисменты
за то, что я выслушал их.
Толпа поэтессок минорно
автографов ждет у кулис.
Доходит до самоубийств!
Скандирующие сурово
Смурновы, Смурновы, Смурновы,
желают на «бис».
И снова как реквием служат,
я выйду в прожекторах,
родившийся, чтобы слушать
среди прирожденных орать.
Заслуги мои небольшие,
сутул и невнятен мой век,
средь тысячей небожителей –
единственный человек.
Меня пожалеют и вспомнят.
Не то, что бывал я пророк,
а что не берег перепонки,
как раньше гортань не берег.
«Скажи в меня, женщина, горе,
скажи в меня счастье!
Как плачем мы, выбежав в поле,
но чаще, но чаще
нам попросту хочется высвободить
невысказанное, заветное…
Нужна хоть кому-нибудь исповедь,
как богу, которого нету!»
Я буду любезен народу
не тем, что творил монумент, –
невысказанную ноту
понять и услышать сумел.
|