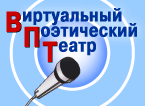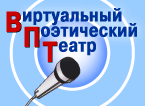* * *
Борису Мессереру
Когда жалела я Бориса,
а он меня в больницу вёз,
стихотворение «Больница»
в глазах стояло вместо слёз.
И думалось: уж коль поэта
мы сами отпустили в смерть
и как-то вытерпели это,—
всё остальное можно снесть.
И от минуты многотрудной
как бы рассудок ни устал,—
ему одной достанет чудной
строки про перстень и футляр.
Так ею любовалась память,
как будто это мой алмаз,
готовый в черный бархат прянуть,
с меня востребуют сейчас.
Не тут-то было! Лишь от улиц
меня отъединил забор,
жизнь удивленная очнулась,
воззрилась на больничный двор.
Двор ей понравился. Не меньше
ей нравились кровать, и суп,
столь вкусный, и больных насмешки
над тем, как бледен он и скуп.
Опробовав свою сохранность,
жизнь стала складывать слова
о том, что во дворе — о радость!—
два возлежат чугунных льва.
Львы одичавшие — привыкли,
что кто-то к ним щекою льнёт.
Податливые их загривки
клялись в ответном чувстве львов.
За все черты, чуть-чуть иные,
чем принято, за не вполне
разумный вид — врачи, больные —
все были ласковы ко мне.
Профессор, коей все боялись,
войдет со свитой, скажет: «Ну-с,
как ваши львы?» — и все смеялись,
что я боюсь и не смеюсь.
Все люди мне казались правы,
я вникла в судьбы, в имена,
и стук ужасной их забавы
в саду — не раздражал меня.
Я видела упадок плоти
и грубо поврежденный дух,
но помышляла о субботе,
когда родные к ним придут.
Пакеты с вредоносно-сильной
едой, объятья на скамье —
весь этот праздник некрасивый
был близок и понятен мне.
Как будто ничего вселенной
не обещала, не должна —
в алмазик бытия бесценный
вцепилась жадная душа.
Всё ярче над небесным краем
двух зорь единый пламень рос.
— Неужто всё еще играет
со львами?— слышался вопрос.
Как напоследок жизнь играла,
смотрел суровый окуляр.
Но это не опровергало
строки про перстень и футляр.
Июнь 1984, Ленинград
|