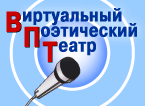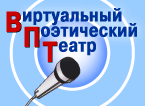Старики молчаливы, и разве глаза скажут слово-другое за них.
Пусть богаты они, все равно бедняки, даже сердце одно на двоих.
В доме пахнет лавандою и чистотой, бродят отзвуки давних речей.
Как в глухом захолустье, в Париже живут старики среди старых вещей.
Верно, смолоду много смеялись они — голоса до сих пор дребезжат.
Верно, смолоду плакали много они — до сих пор все туманится взгляд,
А в пустынной гостиной дряхлеют часы, и вздыхают уныло во сне,
И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и ей, и мне.
Старики день за днем отвыкают мечтать, книги спят, пианино молчит.
Больше некого ждать, и воскресный мускат сердце старое не горячит.
Старики неподвижны, их мир, что ни день, цепенеет, сужается в щель —
От постели до кресла, от кресла к окну, и обратно из кресла в постель.
А бывает, на улицу выйдут они, и в толпе, среди лент и венков,
На далекое кладбище тихо бредут, и хоронят других стариков,
И на миг забывают, что дома часы, удрученно вздыхая во сне,
Все бормочут в бреду и пророчат беду и ему, и ей, и мне.
Старики, точно в пруд, погружаются в сон, и не выплыть порой из пруда.
Как боятся друг друга они потерять и, однако, теряют всегда…
Был он злым или добрым, ах, что за печаль для того, кто остался в живых!
Просто худо ему, что остался в живых, когда сердце одно на двоих.
Вы, должно быть, увидите где-то его, он мелькнет перед вами, как тень,
И прощенья попросит за то, что он жив, и зе то, что всю ночь и весь день
В опустелой гостиной дряхлеют часы, и уныло вздыхают во сне,
И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и вам, и мне,
И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и нам, и мне.
|